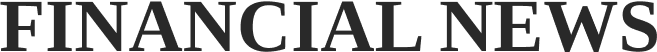Лихие девяностые.Кооперативы времен перестройки.
1988 год в истории Советского Союза можно было бы назвать «годом утюга». Именно в это время утюгом стали пользоваться как никогда активно и часто не по прямому назначению. В 1988-ом только в Москве в милицию было подано шестьсот заявлений от граждан, ставших жертвами жестокого вымогательства. Избитых и раненых или смертельно запуганных, опасающихся не только за собственную жизнь, но и жизнь близких. А раньше таких заявлений было в год не более четырех. Если бы советское правительство знало, какого джинна выпускает из бутылки, легализуя кооперативы!
Кооперативы и закон о кооперации
Житель Ленинграда Валентин Карасев в конце восьмидесятых арендовал небольшое помещение, собрал безработных швей и наладил выпуск спортивных костюмов. Его изделия были для тех, кому «Адидас» не по карману, а в продукции советской текстильной промышленности ходить не хочется. Конкуренции не было, разбогател он быстро.
В октябре 89 года Карасев, уставший от бесконечных угроз и прессинга бандитов, решил, что продержится еще пару месяцев и уедет с семьей за границу. Присмотрел себе в Польше домик, скупал валюту.
Многие кооператоры, устав от наездов бандитов, активно вооружались и могли дать отпор непрошеным гостям в любое время суток. Но Карасев считал, что все обойдется, и продолжал строчить свои костюмы, рассчитывая на то, что выйдет сухим из воды.
Приняли закон о кооперации от отчаяния, потому что стало окончательно понятно: государство в аховой ситуации. Цена советской нефти – всего $17 за баррель. Причем за валюту страна продает лишь половину углеводородов. Вторую часть СССР перегоняет по нефтепроводу «Дружба» социалистическим странам по бартеру. Развал сельского хозяйства. Зерно мы импортируем по цене дороже нефти, в бюджете страны 25-процентная дыра.
Жизнь до перестройки
Журнал «Работница» полон рецептов по выживанию. Хит разговоров с подругами по телефону – рецепт варки домашнего сыра. Это для тех, кто сумеет разжиться молоком и яйцами.
При Брежневе страна жила небогато, но спокойно. Поднатужившись, люди покупали модную стенку или ехали отдыхать на юг. Цены не менялись десятилетиями. Никто не боялся быть уволенным, кусок колбасы был в каждой семье.
Но после короткой эпохи пышных похорон, когда в Советском Союзе подряд умерли три генсека, к власти пришел энергичный Михаил Горбачев и объявил перестройку. Спокойная жизнь в болоте кончилась.
Полки магазинов выглядели просто ужасно. Вся жизнь советских граждан была построена вокруг добычи элементарных вещей. Огромные очереди стояли за гречкой, молоком, туалетной бумагой, шампунем… От дефицита просто озверели. Все женщины научились шить на машинках, ведь нельзя было купить даже обычные семейные трусы. Мужчины вырезали себе стельки из велосипедных шин и сами делали набойки на обувь. Отпустили цены – и зарплаты хватало только на картошку с хлебом.
При этом в стране разрешили смеяться над государством, и на телевидении показали ролик «Похороны еды». Еду провожали, как важного, большого человека. Колонна машин для перевозки молока, хлеба и других продуктов двигалась по Тверской к Манежной площади. Еду хоронили с неподдельной скорбью.
Унылое зрелище представляли из себя городские кафе и рестораны, еды там тоже не было. Тоскливее времени не придумать. Власти продавали золотые запасы, набирали кабальные кредиты на Западе, но вырулить не получалось. Правительство просто в панике, и продвинутые экономисты призывают Горбачева вспомнить нэп.
Кооперативы и стремительные перемены
Ленин назвал нэп «временным тактическим отступлением», что означало: в капитализм мы возвращаемся ненадолго. Разрешили свободно открывать магазины и точки общепита, организовывать частные артели, появились коммерческие кредиты и займы для сельских жителей. Берите деньги на технику, развивайте хозяйство, обогащайтесь. Страна вздохнула, разруха стала отступать. На прилавках появились товары. Но власть, сама разрешившая это, всячески поощряла высмеивание нэпманов и показывала, как они ей противны. Жируют, нажившись на простом народе.
К концу 1920-х нэп свернули. Честно заработанное у нэпманов отняли, их растолкали по тюрьмам, и частной собственности больше в Советском Союзе не допускали. В конце 1980-х история вполне могла повториться. Разрешив кооперативы, власть через короткое время начала их уничтожать.
За пару лет жизнь изменилась так, как будто из черно-белого кино сделали цветное. На унылых улицах появились круглосуточные магазины, броские, дешевые вещи, которыми торговали на бесконечных ярмарках под открытым небом. Это смешно вспоминать, но граждане радовались любому яркому, цветному предмету, потому что всю жизнь жили среди оттенков серого.
Футболки с цветными принтами, колготки в сеточку, всевозможные варенки (уже не просто джинсы, а джинсы в пятнах), куртки с рокерскими заклепками, аляповатые свитера, немыслимая в своей пошлости бижутерия, яркая обувь, кожаны всех мастей… Служила эта одежда недолго, но каким счастливым делала своего хозяина, как много значила для людей в эпоху перемен!
Кооперативы насытили рынок
Кооперативы насытили рынок и товарами для тех, кому хочется выделиться из толпы, и простыми предметами, которых не видно, но купить до перестройки тоже было невозможно. Например, трусами и мужскими майками-алкоголичками.
Московские кооператоры сбывали свой товар на Рижском рынке – гигантской барахолке, набитой ширпотребом. Это было царство невиданного кооперативного изобилия. Торговля товарами носила здесь дикий характер. Свою продукцию новоявленные производители толкали в ларьках и прямо на уличных развалах. Постепенно процесс решено было сделать цивилизованным.
Рядом с продукцией кооператоров на прилавках лежал всевозможный контрафакт. Здесь торговали мебелью, одеждой, едой и даже оружием. Универмаги вышли из моды, ловить там было нечего, москвичи и гости столицы делают шопинг исключительно на Рижском рынке.
Каждый кооператор, который здесь торговал, знал, что придется решать вопрос с «быками». Так называли тогда представителей всевозможных криминальных группировок, вымогающих деньги у новоявленных предпринимателей. Рижский рынок называют «родиной отечественного рэкета». Трясли коммерсантов сразу несколько преступных группировок, и большинство торговцев платило им без звука.
Кооперативы и рэкет
Пропуском в банду была хорошая физическая форма. Появляются слова «качбан», «качок», обозначающие человека, нарастившего большую мышечную массу – совсем не для спортивных соревнований во славу Родины.
В 88 году было обнародовано, что в стране есть организованная преступность. Бандиты ощущали полную безнаказанность, потому что правоохранители получали тогда копейки и голодали со всей страной. На кооператоров они смотрели, как на классовых врагов, и помогать им не спешили.
Предприниматель Артем Тарасов первые серьезные деньги заработал на гениальной идее, подсмотренной в Прибалтике. Там в газетах публиковали объявления, которые заставляли скромных советских граждан бросаться в пот и краску. «Ищу мужа» или «ищу жену». Надо поставить это дело на коммерческие рельсы, решил Тарасов. И открыл первое в Москве брачное агентство с передовым названием «Прогресс».
Гражданину (или гражданке) давали анкету и говорили, чтобы он ее заполнил дома. Вот вам адрес фотографа, который сделает хорошие фотографии. Быстрее вносите в кассу 25 рублей, встретимся через месяц. Фирма за пять дней заработала 100000 рублей, пропустив через коротенькую процедуру 4000 человек. Для сравнения: «Мерседес» в то время стоил 12000 рублей.
К браку в Советском Союзе отношение было серьезное. ЗАГСы называли «дворцами бракосочетания». Создание очередной ячейки советского общества предполагало наличие крепкого, проверенного чувства. Но к концу восьмидесятых в Москве появилось огромное количество иногородних граждан. В поисках лучшей жизни, как и сегодня, в столицу стекались активные провинциалы, готовые активнее москвичей бороться за место под солнцем. Расцвели фиктивные браки — женитьба или замужество ради московской прописки.
Сотрудникам брачного агентства «Прогресс» казалось, что они соединяют людей во имя любви и будущего семейного счастья, а выяснилось, что основная часть их клиентов приходит сюда по холодному расчету. И на шестой день пришла комиссия из Моссовета, которая закрыла фирму Тарасова – «за аморалку».
В это время в правительстве произошел беспрецедентный случай. В СССР членов кабинета либо расстреливали (при Сталине), либо отправляли на заслуженный отдых (при Брежневе). А тут сняли, причем пострадал всесильный глава Минфина Борис Гостев. И погорел министр именно на кооператорах. Уж больно он их не любил. Как и многие другие представители старой партийной элиты, которые считали, что весь этот нэп – растление моральных устоев общества.
Однажды Гостев оказался на заводе ЗИЛ. Картина там была ужасная: жуткие цеха, набитые старыми станками, изуродованные тяжелым трудом рабочие. Народ еще в семидесятые придумал поговорку: «Поработай-ка на ЗИЛе и окажешься в могиле». Разговор министр зачем-то завел о кооператорах. Работяги завелись с пол-оборота.
Борис Гостев и сам ненавидел предприимчивых граждан и всю эту кооперативную возню, поэтому поддержал народный гнев. Об этом напечатали в «Огоньке». Наверху решили, что министра, который не поддерживает новый прогрессивный курс, надо отправить в отставку. Но не прошло и года, как в прессе появились статьи, которые были куда агрессивнее выступлений Гостева. Каша была тогда в головах невероятная: то разрешаем, то готовы уничтожить.
Дикое время
Особенной популярностью у населения пользовались первые платные туалеты. Брали в аренду любое маленькое помещение, сажали старушку с кассой, и бизнес набирал обороты.
Это было просто сенсацией, каким-то чудом! В кооперативные туалеты ходили, как в музей, чтобы посмотреть на красивый интерьер и ощутить атмосферу праздника жизни. В кооперативном туалете была туалетная бумага. Правда, целый рулон в кабинку никогда не вешали – упрут, не напасешься. Гражданин получал из рук старушки лишь кусочек этого счастья.
В кооперативном туалете приятно пахло, потому что пшикали дешевыми польскими дезодорантами, освежителей воздуха тогда еще в Советский Союз не завозили. Старушки на кассе отличались вежливостью, такого сервиса наши люди никогда не видели.
На открытие ресторана или кафе требовались сравнительно небольшие деньги. На простом оборудовании, в нехитром интерьере можно было развернуть весьма успешный бизнес. Главное, было получить разрешение на открытие точки общепита. А потом, когда ресторан уже начинал принимать гостей, вставал острейший вопрос: где брать продукты, из которых готовить блюда? Прилавки магазинов пусты, никаких компаний, доставляющих еду со всего мира, в то время не было. Приходилось идти на рынок – отсюда немыслимые цены.
В кооперативных ресторанах царила атмосфера полной свободы. Была куплена милиция, и она не мешала активно работать здесь проституткам. Подавались неведомые для советского человека, часто контрабандно завезенные спиртные напитки. Здесь собирались для решения вопросов, совершались нелегальные сделки, словом, кипела абсолютно бесконтрольная деловая активность и вольные нравы.
Кооперативные рестораны быстро рождались и быстро могли умереть. Но те рестораторы, которые работали честно, законов не нарушали и умели радовать публику хорошей едой и сервисом, стали миллионерами.
В кооператоры подались цеховики, комсомольские активисты, мелкие начальники. Но особенно много было инженеров. Жизнь у них тусклая, зарплата небольшая, а тут судьба давала шанс.
Роман Рожниковский, как и многие другие представители технической интеллигенции, воспринял закон о кооперации, как выбитое в душном помещении окно. Работа инженером ему надоела, хотелось свежего воздуха. И он открыл кафе, которое сразу стало сверхпопулярным.
Если других кооператоров бандитам нужно было как-то искать, высматривать, где их офисы и цеха, то владельцы кафе и ресторанов были самой простой мишенью. Вот же он, и мы вчера у него гуляли. Давай делись, пока живой. Рожниковский решил не платить рэкетирам. И однажды в его заведение, не стесняясь посетителей, ворвалась группа молодчиков, стала крушить все вокруг и подожгла помещение.
Из кооператоров вышли многие будущие олигархи. Борис Березовский сначала спекулировал пастельным бельем на рынках Дагестана. Потом организовал кооператив по продаже корма для кур. Константин Боровой организовал нашу первую биржу. Когда он рассказывал побывавшим на ней журналистам, что пройдет несколько лет, и очень многие люди будут по утрам интересоваться курсом рубля по отношению к доллару, это вызывало дружный смех.
Про биржу Борового узнали трое студентов. На всех у них было $100. Этого хватило на регистрацию кооператива. Среди них был Олег Дерипаска. Имея брокерское место на этой бирже, они продали свой первый вагон алюминия.
В 1990 году кооперативное движение праздновало трехлетие. Казалось бы, все идет просто отлично. Количество кооператоров увеличилось почти в десять раз, и они уже занимали видное место в советской экономике.
Общество замечало ларьки, набитые разноцветными бутылками и сигаретами, вещевые рынки с пестрой одеждой, но ничего не знало о предприятиях, где куются действительно большие деньги. Это так называемые «директорские кооперативы», паразитировавшие на госкомпаниях, и чиновничьи фирмы, созданные бывшими силовиками. Те, кто имел связи на самом верху и доступ к фондам, зарабатывали миллионы, просто воруя государственное имущество и нагло пользуясь дырами в новых законах.
В конце 80-х был создан кооператив, который впоследствии прогремел на всю страну. Он назывался «АНТ», что расшифровывалось как «Автоматика, Наука, Технология». Его гендиректором был отставной сержант КГБ. Случилось это в Новороссийске. Местная милиция была ошарашена, когда обнаружила, что кооператив «АНТ» куда-то везет двенадцать танков. Всякое видали, но чтобы кооператоры толкали оружие, это был уже перебор.
Однако им тыкали в нос лицензией и убеждали, что если в ней написано «разрешена торговля», то не имеет значения, чем именно кооператив торгует. Хоть трусами, хоть зенитными установками, хоть танками. Дело «АНТа» всколыхнуло всю страну. Начались репрессии, кооперативы стали закрывать сотнями в день. Получилось, что из-за коррупции в самых высших эшелонах власти пострадали рядовые честные кооператоры, которые строчили штаны и кормили голодных граждан пирожками.
Павел Гуськов – сегодня в этом пожилом человеке никогда не узнаешь хозяина жизни конца восьмидесятых. Когда-то он одним из первых в Москве купил себе костюм Versace и пригнал из Польши Mercedes. Гуськов был кооператором первой волны, заработавшим большие деньги на частных автосервисах.
Это было еще одним чудом для советского человека – кооперативы по ремонту автомобилей, где были в наличии запчасти, все делали в срок, предлагали хоть какой-то сервис, без очередей и хамства. Но, как позже шутили, жизнь нового русского красива, но крайне коротка.
Павел потерял абсолютно все: и бизнес, и семью, и уважение к самому себе. Сейчас он говорит, что если бы мог повернуть время вспять, то никогда бы не полез в бизнес. Гуськов просил поддержки у чиновников – ничего не вышло. Набрал кредитов – проценты задушили. В итоге уже еле живой автосервис отобрали какие-то бандиты. Сам же он долго провалялся в больнице с перебитыми ногами. Когда он оттуда вышел, у него уже не было даже жилья.
Кооператору Карасеву, который думал, что продержится еще пару месяцев и уедет за границу, встреча с бандитами обошлась гораздо дороже. Он заплатил им жизнью – своей и супруги. Дочери выжить удалось. Когда убийцы вломились в их квартиру, она услышала шум в коридоре и успела спрятаться в шкаф.
Артем Тарасов прославился тем, что однажды выписал себе зарплату в 3000000 рублей и отчислил с нее налог на бездетность в размере 180000 рублей. Об этом узнали в Политбюро. Там приняли решение осудить его за хищение в особо крупных размерах, за что полагался расстрел.
Он выступил в программе «Взгляд», где очень толково рассказал о работе своего кооператива, который выпускал программное обеспечение для компьютеров, то есть двигал, как говорят сегодня, инновации. Тарасов стал знаменитым, получил два мешка писем. Половина корреспондентов предлагала его расстрелять, вторая – сделать премьер-министром.
Вскоре народ избрал Тарасова депутатом Верховного Совета. Но во власти он пробыл недолго. Однажды ему пришлось собрать все, что нажито непосильным трудом, и срочно бежать за границу. Он узнал, что скоро его убьют. Тарасов даже знал, кому поручена его ликвидация.
«Трудности закаляют людей» — это сказано не про кооператоров, но как будто про них. Они вышли из боев с государством и бандитами изрядно потрепанными, но не сдавшимися. Гвозди бы делать из этих людей.
Так же вы можете прочитать статью о сложных временах в России 90-х годов на нашем сайте «Голодные девяностые»
 financial-news24.ru
financial-news24.ru